Арина Хек
СЛУЧАЙ в НЕСЛУЧАЙНОЙ ИСТОРИИ
Судьба драматургии А. де Мюссе на русской сцене XIX века.
Такое явление как драматургия Альфреда де Мюссе на русской сцене почти не исследовано.
О роли французской актрисы Луизы Аллан в театральной истории Мюссе хорошо известно. Но, чтобы найти в этой истории имя А.М. Каратыгиной, нужно очень постараться.
На самом же деле благодаря Каратыгиной пьесы Мюссе обрели жизнь на сцене, причем, не только в России, но и во Франции.
Да, впервые Мюссе был поставлен в 1830 году в Париже, но постановка провалилась, и Мюссе так оскорбился, что принял решение больше не писать для театра.
В 1837 году Мюссе был поставлен в Санкт-Петербурге.
В спектакле блистала А.М. Каратыгина в роли де Лери. Каратыгина дружила с четой Алланов и посоветовала Л. Аллан включить «Каприз» в репертуар. И proverbe Мюссе на французском языке был сыгран в Михайловском театре в 1843 году. Спектакль приглянулся зрителям, и Каратыгина «зарекомендовала» Аллан вернуться во Францию именно в роли де Лери.
27 ноября 1847 года на сцене театра Comédie-Française Франция с удивлением увидела собственного драматурга в новом свете. К этому времени Мюссе шел на русской сцене уже десять лет. После премьеры в Париже все только и говорили о Мюссе и его «Капризе». Успеха «Каприза» заставил Францию активно ставить пьесы Мюссе, и каждая из них делала театру большие сборы.
В драматургии Мюссе существуют некие крайности: драматическая пословица и историческая драма. Они обозначили не только границы века, но и словно бы пределы исканий Мюссе. Русская сцена XIX века освоила весь объем драматургии Мюссе в последовательном движении от пословицы, через комедию и драматическую поэму к исторической драме.
Я остановлюсь на постановках пьес «Каприз» и «Лорензаччо». Они задают границы богатой истории театральной жизни Мюссе.
«Вся прелесть … заключается, в умении тонко вести разговор так, чтоб зритель забыл, что он в театре и представил бы себе, что перед ним болтают не актеры, а настоящие светские люди.»
В провербах Мюссе практически нет событий, драматическое действие целиком погружено в разговор. И при этом разговор столь изысканный и прихотливый, что по мнению А. А. Григорьева, сама собой возникает будто недовершенность мысли, смысловое многоточие.
Изысканная, легкая игра Мюссе очаровывает, увлекает; светский мир кажется совсем неопасным, ошибки в нем легкомысленные и легковесные. Жизненный, прозаичный по содержанию разговор становится настоящим театром. Играют не столько актеры, сколько сами персонажи.
«Каприз» -- по сути великолепная дуэль между мужчиной и женщиной. Это дуэль изящная и виртуозная, опасная и безобидная, насыщенная французским шиком, одновременно светская забава и острое оружие.
Proverbe Мюссе не обладал драматическими достоинствами «больших» жанров; не обладал сценическими эффектами мелодрамы и водевиля. Значит, мог привлечь зрителя только игрой актеров, словно зажатых в небольшом пространстве между пианино и чайным столиком. Динамичные диалоги, словесная игра создавали обширнейшее поле для особого актерского обаяния: роли Шавиньи и де Лери сами по себе артистичны. А роль играющего, разыгрывающего человека — самая театральная и потому самая привлекательная для артиста.
Целая плеяда актеров прошла через школу «Каприза». Первым в роли Шавиньи выступил А.М. Максимов. Отзывы об игре Максимова были положительными, но без особых восторгов. Возможно, потому что Максимов часто переходил на крик. У Шавиньи же много тонких переходов в эмоциях, а повышенный, высокопарный тон может разорвать кружево человеческих чувств, оказаться неуместным, огрубить некоторую наивность персонажа.
Сосницкий «совершенствовал свой талант в обществе» и потому легко мог справиться с ролью Шавиньи. Сосницкий подходил на эту роль как внешностью — «высокий, с чертами лица продолговатыми и тонкими» , так и манерой игры — «сложившийся по типам французской комедии» , он умел свободно и быстро перевоплощаться, играть роли, совершенно разные по своему содержанию, что важно т.к. Роль Шавиньи отличается стремительной сменой настроений. Также роль Шавиньи в свое время будут исполнять Д.Т. Ленский и Самарин.
В основе роли Матильды комичный, ненатуральный драматизм, почти… милая глупость. Важно показать эту комичность, небольшую преувеличенность, но беззлобно, так наивно и искренне, чтобы роль не превратилась в гримасу и шутовство. Легкая, очаровательная игра В.Н. Асенковой как нельзя лучше подходила Матильде. Помимо Асенковой роль Матильды исполняли и В.В. Самойлова и П.И. Орлова-Савина.
Но главной в этой постановке была мадам де Лери в исполнении Каратыгиной. О том, как сцена превращалась в гостиную барского дома, писали и в «Молве», и П. И. Юркевич после премьеры: «Ее роли — светских женщин, милых, веселых, образованных, кокеток и ветрениц; ее сфера — гостиная; ее назначение — представлять маркиз или герцогинь; ее солнце — блеск бриллиантов и восковых свечей. Сколько благородства, невинного кокетства и веселости в манерах, сколько иронии в ее насмешках, какое тонкое знание всех легких оттенков светской женщины! Нет, это была не Каратыгина! Это была какая-нибудь маркиза!».
В Москве «Женский ум» появился в 1838 году. Критика отнеслась к постановке положительно, но спектакль на афише не закрепился.
Сосницкий, уже игравший с успехом в Петербурге, В Москве перетянул основное внимание на себя. Московский спектакль не имел развития потому, что отсутствовало главное: Каратыгина - де Лери. Обаяние Сосницкого отодвинуло Н. В. Репину, исполнявшую де Лери, на второй план.
Возможно, роль Матильды не совсем подходила Репиной. Природа игры Репиной несходна с природой роли де Лери. Играла Репина по вдохновению, чувственно. Мадам де Лери же требовала точности и выверенности, как требует меткости слова ловкий диалог. Особенно это важно в сцене де Лери и Шавиньи, словесной дуэли со сменой тактик. В партитуре роли де Лери нет долей, нет сильных и слабых моментов чувства, смена тактик — здесь лишь вариации одного сильного лейтмотива; де Лери — это ostinato «Каприза». Репина не смогла найти эпизоды для вдохновения.
Принцип же игры Каратыгиной — «художественная обдуманность в сочетании с живостью исполнения». Она буквально выстраивала свои роли, что как раз гармонично сливалось с природой мадам де Лери. Подтверждает это и тот факт, что волна популярности и восторженных отзывов нахлынула на московский «Каприз» во время гастролей Каратыгиных. Игру Каратыгиной в Москве оценили и дамы высшего круга, и актрисы (в частности, Орлова-Савина, которая после ухода Каратыгиной и сама будет исполнять роль де Лери).
Зрители подтверждали — игра Каратыгиной несравнима с игрою других актрис. Вышло так, что мадам де Лери стала практически собственной, личной ролью А. М. Каратыгиной. Она изначально задала такую высокую планку, нашла такое соприкосновение с ролью, что уже никто не мог достигнуть ее уровня, а значит, не мог добиться успеха в этой роли. В исполнении Каратыгиной пьеса Мюссе поистине становилась невесомой, воздушной, прозрачной, как газовая ткань, вышитая золотой нитью. Чистая эстетика.
Каратыгина не расставалась с ролью де Лери вплоть до окончания карьеры и относила ее к числу «любимейших» . 17 октября 1844 года актриса вышла на сцену с прощальным спектаклем, куда включила «Женский ум…».
После ухода А.М. Каратыгиной со сцены, «Каприз» ставился еще 20 лет. Период с 1837 по 1844 год оказался самым ярким и решающим в истории комедии. О спектаклях последующего времени почти ничего неизвестно, кроме имен исполнителей: Орлова, Максимов, Читау, Самарин, Миронова, Самойлова, Федотова, Васильева...
«Женский ум…» приобрел вполне устойчивые позиции в репертуаре и регулярно появлялся в афише Александринского театра вплоть до 1861 года, а в Москве до 1864. Таким образом, эта пьеса игралась 27 лет. Это, конечно, слишком много для «несценичной безделки».
Пьеса Мюссе «нашла себя» в эпохе актерского театра, «Каприз» твердо вошел в театральную практику. Удачный и слаженный актерский ансамбль создавал пьесе успех. Такой «рабочей» пьесой можно легко заполнить репертуар, но со временем она становилась общим местом и уже не вызывала прежнего восторга.
В 1896 году «Каприз» был вновь поставлен. Реакция зрителей на пьесу оказалась неожиданной. Если в пятидесятые - шестидесятые годы пьесу считали неинтересной и устаревшей, то в 1996 году, еще почти на сорок лет позже, «Каприз» не называют устаревшим и скучным, наоборот, даже отдают должное изящности произведения. Дистанция между старой пьесой и новым зрителем позволила рассмотреть особенности пьесы независимо от времени и даже отрефлексировать театральный опыт. Вдруг выяснилось, что русские актеры исторически разучились играть подобную французскую драматургию. Они слишком далеки от нее.
Первая попытка поставить «Лорензаччо» возникла в 1896 году. Была создана переделка, пьесу желали поставить и Южин, и Ленский, проводились читки в доме Арбенина, на которых присутствовал П. Н. Орленев, но на сцену спектакль не попал.
Наконец, премьера состоялась в бенефис Орленева 2 февраля 1900 года в театре Суворина. Арбенин значительно изменил изначальный порядок сцен, более того — прозу Мюссе он перевел стихами. Поэтическим переводом оказались недовольны все рецензенты, отмечая, что вышла малопонятная каша.
Из-за того, что Арбенину «пришла несчастная мысль перевести великолепную прозу плохими стихами», спектакль получился растрепанным, будто идущим в разные стороны. Рифма заставляла актеров прибегать к штампам, возникал замеченный многими налет архаики, чувство старой актерской школы.
Критики оказались в растерянности. Каждый из актеров предлагал свою концепцию произведения, играл в своей особой манере, тем самым претендуя на центральное, ключевое положение в спектакле. Целостная картина не складывалась, постановка рассыпалась на яркие, интересные, но все же осколки.
Игра Л. Б. Яворской, исполнявшей маркизу Чибо, одних восхитила, у других вызвала отторжение: Яворская «была великолепна, пока не говорила и не двигалась. Затем начались обычные угловатые, некрасивые жесты, больше похожие на шведскую гимнастику, обычное метание по сцене, обычная декламация, напыщенная, утрированная, забавная, часто идущая вразрез со смыслом произносимых слов». Представлялось, что она и не могла быть иной - не вспыхивать, не резать глаз яркостью. «Полное неумение находиться в покое», , хриплый, надломленный голос, «змеиная грация» и глаза рыси делали Яворскую «амазонкой» сцены. Появляясь на сцене, Яворская тянула «Лорензаччо» в модерн.
Совсем иначе Филиппо Строцци играл Бравич, актер с «интеллигентской складкой». В нем была искра исканий, чувство формы большого художника. Новое не пугало его. Играл Бравич прозаично. Бравичу, пожалуй, труднее всех оказалось совместить свою (возможно, несколько резонерскую) манеру игры и стихи Арбенина.
«Далматов из флорентийского герцога Медичи сделал … не то крючника, не то атлета из Михайловского манежа». Сцена убийства герцога была превращена в фарс. Но иные полагали, что Далматов сыграл прекрасно, что это одна из лучших его ролей. Кажется, Далматова всегда склонного к особому рисунку роли, умевшего сочетать внешний лоск и чувствительное напряжение, давать неоднозначность, играть на контрастах положительного и отрицательного — в этом спектакле будто «сносило». Он менял краски: темпераментное «купечество» чередовалось с аристократизмом и «герцогством».
Но что же с самим Лорензаччо? Противники орленевского творчества находили в его Лорензаччо слишком мало опытности, несовпадение таланта и роли. Поклонники Орленева писали о впечатляющем воздействии на зрителя, о глубоком трагическом пафосе.
Кажется, что с особой силой звучали постоянные споры о том, насколько способен Орленев быть драматическим, вернее - трагическим артистом. Исполняя Лоренцо Медичи, Орленев «сдавал экзамен на Гамлета».
Важно, что раздумья и споры об артисте заставляли думать о его герое, о замысле Мюссе. Дорошевич рассуждал, что Лорензаччо неоткуда взять могущества, но в этом-то и трагедия: Брут, который истерически плачет.
Конечно, роль Лорензаччо кажется очень орленевской. Она безусловно в средствах артиста. У артиста есть свой, специфический, особенно болезненный, нервный тон.
Поиск «личного» сближает Орленева с Мюссе. Перенося образ Лоренцо на бумагу, Мюссе лепил его по своему подобию. Орленев, создавая Лоренцо на сцене, искал в абрисе Мюссе свой собственный профиль.
У некоторых же рецензентов возникла ассоциация с издавна хорошо знакомым «мейнингенством». В самом деле, по словам Арбенина руководитель мейнингенской труппы Кронек желал ознакомиться с его переработкой пьесы. Действительно, историческая драма в «мейнингенском» могла подсказать театру все достоинства спектакля «крупной формы».
Но сама мысль Мюссе была иной. Мюссе воссоздавал картину жизни, но драма разворачивалась вокруг и внутри личности.
«Лорензаччо» Мюссе в исполнении Орленева мог стать не исторической пьесой, но историей о трагедии духа, о внутренней драме.
Орленев был мастером натуры. Для роли Лоренцо он попытался копировать итальянские особенности. Но важно другое: «Чем подробнее он показывал всю смутность раздвоенных чувств Лорензаччо, с тем большим мастерством он оттенял в своем герое создавшую его эпоху». И понятно, что эпохой, создавшей Лоренцо таким, каков он в пьесе и на сцене, была не Италия XVI века, но эпоха, современная Мюссе и понятная Орленеву. Лорензаччо — это не итальянец Возрождения, но только «сын XIX века» в костюме итальянца.
И артисты готовы были рассказать не столько о вечном, сколько о веке, который подводил финальную черту и требовал сильной ноты.
Обстановочность спектакля и актерский состав демонстрировали внутреннее несовпадение.
Время требовало неоромантизма, возможно – стилизации, которой оказался чужд суворинский театр.
Интересные актеры были лишены ансамбля, выстроенного режиссерской концепцией.
Пословицы Мюссе оттого получили такую богатую историю на русской сцене, что позволяли артистам реализовать свое особое «я», в них всё было про игру, про актера и для актера.
Пословицы Мюссе обозначили расцвет русского актерского театра, его помпезное и изящное торжество, высокое искусство, праздник игры и восхищения игрой.
«Лорензаччо», наоборот, застал конец эпохи, по-своему ярко и сильно запечатлел переходный период в эстетике, в мастерстве русской сцены.
С мучительным чувством финала, кризиса старого мира «сошлись» русский «Лорензаччо» и Мюссе.
Во Франции времён Мюссе, изборожденной двумя революциями, всюду проникло чувство бесконечной энтропии, драматической рефлексии. Время Мюссе отделило человека от прошлого, появились новые герои, отмеченные, по его выражению, «болезнью века».
Не случайно неврастеник Орленев играет Лорензаччо. Слом истории и великий Рубикон в театре. Эра актера проходит. В новом мире появляется режиссер и режиссерский театр.
В основе всей драматургии Мюссе лежит игра, понятие об игре. Мюссе предлагает видеть мир как бесконечную игру. Играют его герои, как в «Капризе». Играет он сам с литературой, примеряет на себя маски других писателей, пародирует их. Но эта игра — бесконечное театральное утверждение своего «я» и бесконечное искание. Глубокий, настоящий романтизм.
Мюссе смотрел на мир глазами романтика. Следование художественным правилам, программе убивает страсть и бурю, непостоянство. Правило есть стандарт, гибель романтика. Мюссе — это разрыв шаблона, нарушение правил.
Мюссе похож на всех и не похож ни на кого так сильно, как на самого себя. В этом его особая притягательность, его игра и правда, его театральность.
О роли французской актрисы Луизы Аллан в театральной истории Мюссе хорошо известно. Но, чтобы найти в этой истории имя А.М. Каратыгиной, нужно очень постараться.
На самом же деле благодаря Каратыгиной пьесы Мюссе обрели жизнь на сцене, причем, не только в России, но и во Франции.
Да, впервые Мюссе был поставлен в 1830 году в Париже, но постановка провалилась, и Мюссе так оскорбился, что принял решение больше не писать для театра.
В 1837 году Мюссе был поставлен в Санкт-Петербурге.
В спектакле блистала А.М. Каратыгина в роли де Лери. Каратыгина дружила с четой Алланов и посоветовала Л. Аллан включить «Каприз» в репертуар. И proverbe Мюссе на французском языке был сыгран в Михайловском театре в 1843 году. Спектакль приглянулся зрителям, и Каратыгина «зарекомендовала» Аллан вернуться во Францию именно в роли де Лери.
27 ноября 1847 года на сцене театра Comédie-Française Франция с удивлением увидела собственного драматурга в новом свете. К этому времени Мюссе шел на русской сцене уже десять лет. После премьеры в Париже все только и говорили о Мюссе и его «Капризе». Успеха «Каприза» заставил Францию активно ставить пьесы Мюссе, и каждая из них делала театру большие сборы.
***
В России XIX века были поставлены пять пьес Мюссе. Это «Женский ум лучше всяких дум» («Каприз»), «Два замечания» («Дверь должна быть или открыта, или закрыта»), «Осел и ручей», «Диана Форнари» («Каштаны из огня») и «Лорензаччо». В сценической истории Мюссе оживают прекрасные актерские сюжеты, обнаруживаются важные репертуарные линии, по-своему проявляются важнейшие тенденции русской сцены.В драматургии Мюссе существуют некие крайности: драматическая пословица и историческая драма. Они обозначили не только границы века, но и словно бы пределы исканий Мюссе. Русская сцена XIX века освоила весь объем драматургии Мюссе в последовательном движении от пословицы, через комедию и драматическую поэму к исторической драме.
Я остановлюсь на постановках пьес «Каприз» и «Лорензаччо». Они задают границы богатой истории театральной жизни Мюссе.
***
В 1837 году А. Н. Очкин перевел «Каприз» и опубликовал в журнале «Библиотека для чтения». В это время А. М. Каратыгина ознакомилась с пьесой в оригинале и пожелала поставить ее в свой бенефис.«Вся прелесть … заключается, в умении тонко вести разговор так, чтоб зритель забыл, что он в театре и представил бы себе, что перед ним болтают не актеры, а настоящие светские люди.»
В провербах Мюссе практически нет событий, драматическое действие целиком погружено в разговор. И при этом разговор столь изысканный и прихотливый, что по мнению А. А. Григорьева, сама собой возникает будто недовершенность мысли, смысловое многоточие.
Изысканная, легкая игра Мюссе очаровывает, увлекает; светский мир кажется совсем неопасным, ошибки в нем легкомысленные и легковесные. Жизненный, прозаичный по содержанию разговор становится настоящим театром. Играют не столько актеры, сколько сами персонажи.
«Каприз» -- по сути великолепная дуэль между мужчиной и женщиной. Это дуэль изящная и виртуозная, опасная и безобидная, насыщенная французским шиком, одновременно светская забава и острое оружие.
Proverbe Мюссе не обладал драматическими достоинствами «больших» жанров; не обладал сценическими эффектами мелодрамы и водевиля. Значит, мог привлечь зрителя только игрой актеров, словно зажатых в небольшом пространстве между пианино и чайным столиком. Динамичные диалоги, словесная игра создавали обширнейшее поле для особого актерского обаяния: роли Шавиньи и де Лери сами по себе артистичны. А роль играющего, разыгрывающего человека — самая театральная и потому самая привлекательная для артиста.
Целая плеяда актеров прошла через школу «Каприза». Первым в роли Шавиньи выступил А.М. Максимов. Отзывы об игре Максимова были положительными, но без особых восторгов. Возможно, потому что Максимов часто переходил на крик. У Шавиньи же много тонких переходов в эмоциях, а повышенный, высокопарный тон может разорвать кружево человеческих чувств, оказаться неуместным, огрубить некоторую наивность персонажа.
Сосницкий «совершенствовал свой талант в обществе» и потому легко мог справиться с ролью Шавиньи. Сосницкий подходил на эту роль как внешностью — «высокий, с чертами лица продолговатыми и тонкими» , так и манерой игры — «сложившийся по типам французской комедии» , он умел свободно и быстро перевоплощаться, играть роли, совершенно разные по своему содержанию, что важно т.к. Роль Шавиньи отличается стремительной сменой настроений. Также роль Шавиньи в свое время будут исполнять Д.Т. Ленский и Самарин.
В основе роли Матильды комичный, ненатуральный драматизм, почти… милая глупость. Важно показать эту комичность, небольшую преувеличенность, но беззлобно, так наивно и искренне, чтобы роль не превратилась в гримасу и шутовство. Легкая, очаровательная игра В.Н. Асенковой как нельзя лучше подходила Матильде. Помимо Асенковой роль Матильды исполняли и В.В. Самойлова и П.И. Орлова-Савина.
Но главной в этой постановке была мадам де Лери в исполнении Каратыгиной. О том, как сцена превращалась в гостиную барского дома, писали и в «Молве», и П. И. Юркевич после премьеры: «Ее роли — светских женщин, милых, веселых, образованных, кокеток и ветрениц; ее сфера — гостиная; ее назначение — представлять маркиз или герцогинь; ее солнце — блеск бриллиантов и восковых свечей. Сколько благородства, невинного кокетства и веселости в манерах, сколько иронии в ее насмешках, какое тонкое знание всех легких оттенков светской женщины! Нет, это была не Каратыгина! Это была какая-нибудь маркиза!».
В Москве «Женский ум» появился в 1838 году. Критика отнеслась к постановке положительно, но спектакль на афише не закрепился.
Сосницкий, уже игравший с успехом в Петербурге, В Москве перетянул основное внимание на себя. Московский спектакль не имел развития потому, что отсутствовало главное: Каратыгина - де Лери. Обаяние Сосницкого отодвинуло Н. В. Репину, исполнявшую де Лери, на второй план.
Возможно, роль Матильды не совсем подходила Репиной. Природа игры Репиной несходна с природой роли де Лери. Играла Репина по вдохновению, чувственно. Мадам де Лери же требовала точности и выверенности, как требует меткости слова ловкий диалог. Особенно это важно в сцене де Лери и Шавиньи, словесной дуэли со сменой тактик. В партитуре роли де Лери нет долей, нет сильных и слабых моментов чувства, смена тактик — здесь лишь вариации одного сильного лейтмотива; де Лери — это ostinato «Каприза». Репина не смогла найти эпизоды для вдохновения.
Принцип же игры Каратыгиной — «художественная обдуманность в сочетании с живостью исполнения». Она буквально выстраивала свои роли, что как раз гармонично сливалось с природой мадам де Лери. Подтверждает это и тот факт, что волна популярности и восторженных отзывов нахлынула на московский «Каприз» во время гастролей Каратыгиных. Игру Каратыгиной в Москве оценили и дамы высшего круга, и актрисы (в частности, Орлова-Савина, которая после ухода Каратыгиной и сама будет исполнять роль де Лери).
Зрители подтверждали — игра Каратыгиной несравнима с игрою других актрис. Вышло так, что мадам де Лери стала практически собственной, личной ролью А. М. Каратыгиной. Она изначально задала такую высокую планку, нашла такое соприкосновение с ролью, что уже никто не мог достигнуть ее уровня, а значит, не мог добиться успеха в этой роли. В исполнении Каратыгиной пьеса Мюссе поистине становилась невесомой, воздушной, прозрачной, как газовая ткань, вышитая золотой нитью. Чистая эстетика.
Каратыгина не расставалась с ролью де Лери вплоть до окончания карьеры и относила ее к числу «любимейших» . 17 октября 1844 года актриса вышла на сцену с прощальным спектаклем, куда включила «Женский ум…».
После ухода А.М. Каратыгиной со сцены, «Каприз» ставился еще 20 лет. Период с 1837 по 1844 год оказался самым ярким и решающим в истории комедии. О спектаклях последующего времени почти ничего неизвестно, кроме имен исполнителей: Орлова, Максимов, Читау, Самарин, Миронова, Самойлова, Федотова, Васильева...
«Женский ум…» приобрел вполне устойчивые позиции в репертуаре и регулярно появлялся в афише Александринского театра вплоть до 1861 года, а в Москве до 1864. Таким образом, эта пьеса игралась 27 лет. Это, конечно, слишком много для «несценичной безделки».
Пьеса Мюссе «нашла себя» в эпохе актерского театра, «Каприз» твердо вошел в театральную практику. Удачный и слаженный актерский ансамбль создавал пьесе успех. Такой «рабочей» пьесой можно легко заполнить репертуар, но со временем она становилась общим местом и уже не вызывала прежнего восторга.
В 1896 году «Каприз» был вновь поставлен. Реакция зрителей на пьесу оказалась неожиданной. Если в пятидесятые - шестидесятые годы пьесу считали неинтересной и устаревшей, то в 1996 году, еще почти на сорок лет позже, «Каприз» не называют устаревшим и скучным, наоборот, даже отдают должное изящности произведения. Дистанция между старой пьесой и новым зрителем позволила рассмотреть особенности пьесы независимо от времени и даже отрефлексировать театральный опыт. Вдруг выяснилось, что русские актеры исторически разучились играть подобную французскую драматургию. Они слишком далеки от нее.
***
В 1896 году рядом с «Дианой Форнари» и «Капризом» появился «Лорензаччо». Сара Бернар впервые в истории выводит пьесу на сцену. Арбенин и Аверкиев отдают свои переводы «Лорензаччо» в цензуру.Первая попытка поставить «Лорензаччо» возникла в 1896 году. Была создана переделка, пьесу желали поставить и Южин, и Ленский, проводились читки в доме Арбенина, на которых присутствовал П. Н. Орленев, но на сцену спектакль не попал.
Наконец, премьера состоялась в бенефис Орленева 2 февраля 1900 года в театре Суворина. Арбенин значительно изменил изначальный порядок сцен, более того — прозу Мюссе он перевел стихами. Поэтическим переводом оказались недовольны все рецензенты, отмечая, что вышла малопонятная каша.
Из-за того, что Арбенину «пришла несчастная мысль перевести великолепную прозу плохими стихами», спектакль получился растрепанным, будто идущим в разные стороны. Рифма заставляла актеров прибегать к штампам, возникал замеченный многими налет архаики, чувство старой актерской школы.
Критики оказались в растерянности. Каждый из актеров предлагал свою концепцию произведения, играл в своей особой манере, тем самым претендуя на центральное, ключевое положение в спектакле. Целостная картина не складывалась, постановка рассыпалась на яркие, интересные, но все же осколки.
Игра Л. Б. Яворской, исполнявшей маркизу Чибо, одних восхитила, у других вызвала отторжение: Яворская «была великолепна, пока не говорила и не двигалась. Затем начались обычные угловатые, некрасивые жесты, больше похожие на шведскую гимнастику, обычное метание по сцене, обычная декламация, напыщенная, утрированная, забавная, часто идущая вразрез со смыслом произносимых слов». Представлялось, что она и не могла быть иной - не вспыхивать, не резать глаз яркостью. «Полное неумение находиться в покое», , хриплый, надломленный голос, «змеиная грация» и глаза рыси делали Яворскую «амазонкой» сцены. Появляясь на сцене, Яворская тянула «Лорензаччо» в модерн.
Совсем иначе Филиппо Строцци играл Бравич, актер с «интеллигентской складкой». В нем была искра исканий, чувство формы большого художника. Новое не пугало его. Играл Бравич прозаично. Бравичу, пожалуй, труднее всех оказалось совместить свою (возможно, несколько резонерскую) манеру игры и стихи Арбенина.
«Далматов из флорентийского герцога Медичи сделал … не то крючника, не то атлета из Михайловского манежа». Сцена убийства герцога была превращена в фарс. Но иные полагали, что Далматов сыграл прекрасно, что это одна из лучших его ролей. Кажется, Далматова всегда склонного к особому рисунку роли, умевшего сочетать внешний лоск и чувствительное напряжение, давать неоднозначность, играть на контрастах положительного и отрицательного — в этом спектакле будто «сносило». Он менял краски: темпераментное «купечество» чередовалось с аристократизмом и «герцогством».
Но что же с самим Лорензаччо? Противники орленевского творчества находили в его Лорензаччо слишком мало опытности, несовпадение таланта и роли. Поклонники Орленева писали о впечатляющем воздействии на зрителя, о глубоком трагическом пафосе.
Кажется, что с особой силой звучали постоянные споры о том, насколько способен Орленев быть драматическим, вернее - трагическим артистом. Исполняя Лоренцо Медичи, Орленев «сдавал экзамен на Гамлета».
Важно, что раздумья и споры об артисте заставляли думать о его герое, о замысле Мюссе. Дорошевич рассуждал, что Лорензаччо неоткуда взять могущества, но в этом-то и трагедия: Брут, который истерически плачет.
Конечно, роль Лорензаччо кажется очень орленевской. Она безусловно в средствах артиста. У артиста есть свой, специфический, особенно болезненный, нервный тон.
Поиск «личного» сближает Орленева с Мюссе. Перенося образ Лоренцо на бумагу, Мюссе лепил его по своему подобию. Орленев, создавая Лоренцо на сцене, искал в абрисе Мюссе свой собственный профиль.
У некоторых же рецензентов возникла ассоциация с издавна хорошо знакомым «мейнингенством». В самом деле, по словам Арбенина руководитель мейнингенской труппы Кронек желал ознакомиться с его переработкой пьесы. Действительно, историческая драма в «мейнингенском» могла подсказать театру все достоинства спектакля «крупной формы».
Но сама мысль Мюссе была иной. Мюссе воссоздавал картину жизни, но драма разворачивалась вокруг и внутри личности.
«Лорензаччо» Мюссе в исполнении Орленева мог стать не исторической пьесой, но историей о трагедии духа, о внутренней драме.
Орленев был мастером натуры. Для роли Лоренцо он попытался копировать итальянские особенности. Но важно другое: «Чем подробнее он показывал всю смутность раздвоенных чувств Лорензаччо, с тем большим мастерством он оттенял в своем герое создавшую его эпоху». И понятно, что эпохой, создавшей Лоренцо таким, каков он в пьесе и на сцене, была не Италия XVI века, но эпоха, современная Мюссе и понятная Орленеву. Лорензаччо — это не итальянец Возрождения, но только «сын XIX века» в костюме итальянца.
И артисты готовы были рассказать не столько о вечном, сколько о веке, который подводил финальную черту и требовал сильной ноты.
Обстановочность спектакля и актерский состав демонстрировали внутреннее несовпадение.
Время требовало неоромантизма, возможно – стилизации, которой оказался чужд суворинский театр.
Интересные актеры были лишены ансамбля, выстроенного режиссерской концепцией.
***
Драматургия Мюссе приходит на русскую сцену в середине XIX века и удивительно «ложится», а во многом и оттачивает, обогащает отечественную школу.Пословицы Мюссе оттого получили такую богатую историю на русской сцене, что позволяли артистам реализовать свое особое «я», в них всё было про игру, про актера и для актера.
Пословицы Мюссе обозначили расцвет русского актерского театра, его помпезное и изящное торжество, высокое искусство, праздник игры и восхищения игрой.
«Лорензаччо», наоборот, застал конец эпохи, по-своему ярко и сильно запечатлел переходный период в эстетике, в мастерстве русской сцены.
С мучительным чувством финала, кризиса старого мира «сошлись» русский «Лорензаччо» и Мюссе.
Во Франции времён Мюссе, изборожденной двумя революциями, всюду проникло чувство бесконечной энтропии, драматической рефлексии. Время Мюссе отделило человека от прошлого, появились новые герои, отмеченные, по его выражению, «болезнью века».
Не случайно неврастеник Орленев играет Лорензаччо. Слом истории и великий Рубикон в театре. Эра актера проходит. В новом мире появляется режиссер и режиссерский театр.
В основе всей драматургии Мюссе лежит игра, понятие об игре. Мюссе предлагает видеть мир как бесконечную игру. Играют его герои, как в «Капризе». Играет он сам с литературой, примеряет на себя маски других писателей, пародирует их. Но эта игра — бесконечное театральное утверждение своего «я» и бесконечное искание. Глубокий, настоящий романтизм.
Мюссе смотрел на мир глазами романтика. Следование художественным правилам, программе убивает страсть и бурю, непостоянство. Правило есть стандарт, гибель романтика. Мюссе — это разрыв шаблона, нарушение правил.
Мюссе похож на всех и не похож ни на кого так сильно, как на самого себя. В этом его особая притягательность, его игра и правда, его театральность.
Книги и статьи в книгах:
1. [Некрасов, Н. А.]. Литературная критика; Библиография / Некрасов Н. А. — [б.м.] : [б.и.], [б.г.]. — 350 c.
2. Lafoscade, L. Le theatre d'Alfred de Musset. 429 p.
3. Алексеев, А.А. Воспоминания актера А.А. Алексеева / А. А. Алексеев. — Москва: Артист, 1894. — [2], 254, IV с.
4. Альтшуллер, А. Я. Театр прославленных мастеров : Очерки истории Александринской сцены / А. Я. Альтшуллер. — Л. : Искусство, 1968. — 306 с.
5. Арапов, П. Н. Летопись русского театра / П. Н. Арапов. — СПб: Тип. Н. Тиблена и Ко, 1861. — с.
6. Баженов А.Н. Первые бенефисы… // Баженов А. Н. Сочинения и переводы. Т. 1. 1869. С. 111.
7. Баженов А. Н. Беседы о театре // Баженов А. Н. Сочинения и переводы. Т. 1. 1869. С. 192.
8. В. В. В. [Строев В. М.] Биография Александры Михайловны Каратыгиной / В. В. В. — СПб. : Тип. М. Д. Ольхина, 1845. — 53 с.
9. Вольф, А. И. Хроника петербургских театров [в 3 ч.] / А. И. Вольф. — СПб. : Тип. Р. Голике, 1877. — Ч. 1. — 190 с.
10. Гаршин, В.М. Из писем к В. М. Латкину. // Памяти В. М. Гаршина. СПб : тип. В. И. Штейн, 1889. С.44-46.
11. Горбунов, И.Ф. Очерки из истории театра. / И. Ф. Горбунов. — [СПб] : [б. и.], [190-?]. — [149] с.
12. Григорович, Д. В. Литературные воспоминания. 1893.
13. Григорьев, А. А. Театральная критика. Л., 1985.
14. Дружинин, А.В. XI [Январь 1850] // Собрание Сочинений : в 8 т. / А. В. Дружинин. СПб. : тип. Имп. Академ. Наук, 1865. Т.6. С.257-275.
15. Дружинин, А.В. XIII [Март 1850] // Собрание Сочинений : в 8т. / А. В. Дружинин. СПб. : тип. Имп. Академ. Наук, 1865. Т.6. С.300-323.
16. Каратыгин, П. А. Записки : в 2 т. / П. А. Каратыгин. — Л. : Academia, 1929. — Т. 2. — 495 с.
17. Кудряшева, Н. В. Александра Михайловна Колосова-Каратыгина / Н. В. Кудряшева // Сюжеты Александринской сцены / отв. ред. А. А. Чепуров, редкол: А. Я. Альтшуллер [и др.]. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — С. 7-31.
18. Мильчина, В. А. Жизнь и творчество «Сына века» / В. А. Мильчина // Мюссе А. де. Исповедь сына века / Альфред де Мюссе. — М. : Правда, 1988. — С. 5-22.
19. Моруа А. Альфред де Мюссе // Литературные портреты. Р. на/Д. : из-во Феникс, 1997. 512 с.
20. Мюссе, А. де. Женский ум лучше всяких дум / А. де Мюсе. — [Б. м.] : [Б. и.], [1837]. — 53 с.
21. Мюссе, А. де. Избранные сочинения / Альфред де Мюссе ; авт. биогр. ст. В. Е. Чешихин. — СПб. : изд. Глазунова, 1901. — 245 с.
22. Мюссе, А. де. Театр : Сочинения / Альфред де Мюссе ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. А. В. Федорова. — М. ; Л. : Academia, 1934. — 615 с.
23. Орленев, П. Н. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим / П. Н. Орленев. Л.; М.: Искусство, 1961. — 343 с.
24. Орлова-Савина, П. И. Автобиография / Прасковья Орлова-Савина. — М. : Художлит, 1994. — с.Пушкин, А. С. О Альфреде Мюссе // Пушкин А. С. Мысли о литературе / А. С. Пушкин. — М. : Современник, 1988. — С. 165-166.
25. Стасов, В. В. Г-жа Аллан и Альфред де Мюссе // Стасов В. В. Собрание сочинений / В. В. Стасов. — СПб : Тип. И. Н. Скороходова, 1894. — С. 153-159.
26. Тургенев, И. С. [Письмо к Полине Виардо от 7 декабря 1847 г. ] // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. : Письма : в 18 т. / И. С. Тургенев. — М. : Наука, 1982. — Т. 1. — С. 242-244.
27. Урусов, А. И. Статьи о театре, о литературе и об искусстве… Т. I, М. 1907, стр. 37–40.
Периодика:
1. С. Ш. [Шевырев С. П.] Об игре г-жи Каратыгиной // Молва. — 1833. — 13 мая. — №57. — С. 225-228.
2. С. Ш. [Шевырев С. П.] Об игре г-жи Каратыгиной // Молва. — 1833. — 16 мая. — №58. — С. 230-232.
3. Русский театр в Петербурге // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». — 1837. —18 дек. — №51. — С. 497-499.
4. П. М. [Юркевич П. И.] Александринский театр // Северная пчела. — 1837. — 28 дек. — №294.— С. 1173-1176.
5. Л.Л. [Межевич В.С.] Театр: Театральная хроника Москвы // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». — 1838. — 6 авг. — № 32. — С. 636–638.
6. Театр // Ведомости Санктпетербургской городской полиции. — 1839. — 20 сент. — № 24. — С. 96.
7. Театр // Ведомости Санктпетербургской городской полиции. — 1839. — 7 окт. — № 29. — С. 114.
8. Журнальные заметки // Северная пчела. — 1841. — 8 марта. — №54. — С. 215.
9. Коровкин, Н. А. Московский театр // Северная пчела. — 1841. — 28 апр. — № 391.— С. 361-362.
10. Б.к..м.ш.в. Н. [Беклемишев Н. В.] Театральная хроника Москвы // Литературная газета. — 1841. — 30 окт. — № 123. — С. 491–492.
11. В. В. В. [Строев В. М.] Портретная галерея русских сценических артистов : А. М. Каратыгина // Репертуар русского театра. — 1841. — Т. 1. — С. 1-8.
12. А. Гр. [Греч А. Н.] Александринский театр // Северная пчела. —1843. — 14 сент. — № 204. — С.813-814.
13. Ф. Б. [Булгарин Ф. В.] Александра Михайловна Каратыгина, урожденная Колосова // Северная пчела. — 1844. — №230. — 10 окт. — С. 919-920.
14. Ф. Б. [Булгарин Ф. В.] Журнальная всякая всячина // Северная пчела. — 1844. — 21 окт. — №240. — С.957-958.
15. Межевич, В. Несколько слов к портрету А. М. Каратыгиной // Репертуар и Пантеон. — 1844. — Т. 8 ; кн. 12. — С. 779-781.
16. А. Г. [Григорьев А. А.] Альфред де Мюссе // Московское обозрение. —1859. — Кн. 2. — С. 107-168.
17. Ковалевский, П. Юбилейные спектакли Гоголя в Петербурге. // Русская мысль. — 1886. — май. — отд. ХVI. — С. 181.
18. Хроника : Москва // Театрал. — 1896. — № 86. — окт. — С.101.
19. Заграничная хроника // Театрал. — 1896. — №97. — дек. — С. 120-122.
20. Соловьев, С. П. Отрывки из памятной книжки отставного режиссера // Ежегодник императорских театров. Сезон 1895-1896. Кн. 1. С. 129.
21. Я. Театр Корша // Театральные известия. 1896. 22 сент. №457.
22. История одной пьесы // Театральные известия. 1896. 3 окт. №467.
23. В. Е. [Ермилов В. Е.] Театр Корша // Театральные известия. 1896. 6 окт. № 469.
24. В. Е. [Ермилов В. Е.] Театр Корша // Театральные известия. 1896. 21 окт. №481.
25. Григорьев, А.А. Драмы А. де Мюссе. Москвитянин №13
26. Театр и музыка // Русские ведомости. 1896. 14 окт. № 284.
27. А. Епифанский. Провинциальная летопись // Дневник театра и искусства. 1900. 10 сент. №2.
28. Воспоминания старого театрала // Новости сезона. 1896.
29. Н. Р-ский. Театральный курьер // Петербургский листок. 1900. 3 февр. №33.
30. Театральное эхо // Петербургская газета. 1900. 3 февр. № 33.
31. В. П. О театре // Молва. 1857. 11 мая. №5. С. 61-62.
32. Русские спектакли // Театральный и музыкальный вестник. — 1857. — 13 окт. — №40. — С. 533-535.
33. А. Т. Театр литературно-художественного общества. // Сын отечества. — 1900. — 4 февр. — №34. — Изд. 2-е.
34. А. Т. Театр литературно-художественного общества // Сын отечества. — 1900. — 5 февр. — №35. — Изд. 2-е.
35. Театр и музыка // Россия. 1900. 27 янв. №272.
36. Театр и музыка // Россия. 1900. 3 февр. №279. С.3.
37. В. Д. [В.М. Дорошевич] Театр и музыка // Россия. 1900. 4 февр. №280. С.4.
38. Театральная хроника // Новости дня. 1896. 19 окт.
39. Театральная хроника // Новости дня. 1896. 22 окт.
40. С. Васильев. Театральная хроника // Русское слово. 1896. 22 окт. №284.
41. Современное обозрение // Театрал. №91. С.51-54.
42. Московская сцена // Русская сцена. С.1-12.
43. Театр и искусство. 1900. №6.
44. Юр. Беляев. Бенефис г. Орленева // Новое время. 1900. 3 февр. 1-е изд.С.5.
45. К. П. Фельетон // Санктпетербургские ведомости. 1848. 18 дек. №285.
46. Панаев, И. И. Современник. 1848. Т. 12. № 12, отд. 2. С.199.
47. Отечественные записки. 1848. Т. 61. №12, отд. 6. С. 112-113.
48. Бенефис г-на Усачева // Московские ведомости. 1849. 30 апр. №52. С. 549.
49. Французский театр. // Иллюстрация. 1848. Т.6. С. 92-93.
«Женский ум лучше всяких дум», «Каприз»:
Санкт-Петербург: 8, 28 дек. 1837; 26,31 янв., 12 февр., 21 апр., 9 июнь 1838; 7, 10 сент., 3 окт. 1839; 24 нояб., 4 дек 1841; 6, 22 сент. 1843; 17 окт. 1844; 19 июль 1851; 9 июль 1852; 27 июль, 25 авг. 1853; 7, 14 окт. 1857; 16 окт. 1861.
Москва: 27 апр. 1838; 6 сент. 1840; 11 апр. 1841; 28 сент., 16 нояб., 21 дек. 1848 г; 3 янв., 11 апр., 21 июнь, 26 сент. 1849; 31 янв., 28 сент., 27 дек. 1850; 23 янв. 1853; 22, 24 окт. 1854; 12 окт. 1856; 27 янв. 1857; 8 июнь, 6 июль 1862; 17, 23 май, 25 июль, 11 окт. 1863; 2, 26 февр. 1864; 18, 21, 24, 27, 30 окт. 1896.
1. [Некрасов, Н. А.]. Литературная критика; Библиография / Некрасов Н. А. — [б.м.] : [б.и.], [б.г.]. — 350 c.
2. Lafoscade, L. Le theatre d'Alfred de Musset. 429 p.
3. Алексеев, А.А. Воспоминания актера А.А. Алексеева / А. А. Алексеев. — Москва: Артист, 1894. — [2], 254, IV с.
4. Альтшуллер, А. Я. Театр прославленных мастеров : Очерки истории Александринской сцены / А. Я. Альтшуллер. — Л. : Искусство, 1968. — 306 с.
5. Арапов, П. Н. Летопись русского театра / П. Н. Арапов. — СПб: Тип. Н. Тиблена и Ко, 1861. — с.
6. Баженов А.Н. Первые бенефисы… // Баженов А. Н. Сочинения и переводы. Т. 1. 1869. С. 111.
7. Баженов А. Н. Беседы о театре // Баженов А. Н. Сочинения и переводы. Т. 1. 1869. С. 192.
8. В. В. В. [Строев В. М.] Биография Александры Михайловны Каратыгиной / В. В. В. — СПб. : Тип. М. Д. Ольхина, 1845. — 53 с.
9. Вольф, А. И. Хроника петербургских театров [в 3 ч.] / А. И. Вольф. — СПб. : Тип. Р. Голике, 1877. — Ч. 1. — 190 с.
10. Гаршин, В.М. Из писем к В. М. Латкину. // Памяти В. М. Гаршина. СПб : тип. В. И. Штейн, 1889. С.44-46.
11. Горбунов, И.Ф. Очерки из истории театра. / И. Ф. Горбунов. — [СПб] : [б. и.], [190-?]. — [149] с.
12. Григорович, Д. В. Литературные воспоминания. 1893.
13. Григорьев, А. А. Театральная критика. Л., 1985.
14. Дружинин, А.В. XI [Январь 1850] // Собрание Сочинений : в 8 т. / А. В. Дружинин. СПб. : тип. Имп. Академ. Наук, 1865. Т.6. С.257-275.
15. Дружинин, А.В. XIII [Март 1850] // Собрание Сочинений : в 8т. / А. В. Дружинин. СПб. : тип. Имп. Академ. Наук, 1865. Т.6. С.300-323.
16. Каратыгин, П. А. Записки : в 2 т. / П. А. Каратыгин. — Л. : Academia, 1929. — Т. 2. — 495 с.
17. Кудряшева, Н. В. Александра Михайловна Колосова-Каратыгина / Н. В. Кудряшева // Сюжеты Александринской сцены / отв. ред. А. А. Чепуров, редкол: А. Я. Альтшуллер [и др.]. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — С. 7-31.
18. Мильчина, В. А. Жизнь и творчество «Сына века» / В. А. Мильчина // Мюссе А. де. Исповедь сына века / Альфред де Мюссе. — М. : Правда, 1988. — С. 5-22.
19. Моруа А. Альфред де Мюссе // Литературные портреты. Р. на/Д. : из-во Феникс, 1997. 512 с.
20. Мюссе, А. де. Женский ум лучше всяких дум / А. де Мюсе. — [Б. м.] : [Б. и.], [1837]. — 53 с.
21. Мюссе, А. де. Избранные сочинения / Альфред де Мюссе ; авт. биогр. ст. В. Е. Чешихин. — СПб. : изд. Глазунова, 1901. — 245 с.
22. Мюссе, А. де. Театр : Сочинения / Альфред де Мюссе ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. А. В. Федорова. — М. ; Л. : Academia, 1934. — 615 с.
23. Орленев, П. Н. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим / П. Н. Орленев. Л.; М.: Искусство, 1961. — 343 с.
24. Орлова-Савина, П. И. Автобиография / Прасковья Орлова-Савина. — М. : Художлит, 1994. — с.Пушкин, А. С. О Альфреде Мюссе // Пушкин А. С. Мысли о литературе / А. С. Пушкин. — М. : Современник, 1988. — С. 165-166.
25. Стасов, В. В. Г-жа Аллан и Альфред де Мюссе // Стасов В. В. Собрание сочинений / В. В. Стасов. — СПб : Тип. И. Н. Скороходова, 1894. — С. 153-159.
26. Тургенев, И. С. [Письмо к Полине Виардо от 7 декабря 1847 г. ] // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. : Письма : в 18 т. / И. С. Тургенев. — М. : Наука, 1982. — Т. 1. — С. 242-244.
27. Урусов, А. И. Статьи о театре, о литературе и об искусстве… Т. I, М. 1907, стр. 37–40.
Периодика:
1. С. Ш. [Шевырев С. П.] Об игре г-жи Каратыгиной // Молва. — 1833. — 13 мая. — №57. — С. 225-228.
2. С. Ш. [Шевырев С. П.] Об игре г-жи Каратыгиной // Молва. — 1833. — 16 мая. — №58. — С. 230-232.
3. Русский театр в Петербурге // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». — 1837. —18 дек. — №51. — С. 497-499.
4. П. М. [Юркевич П. И.] Александринский театр // Северная пчела. — 1837. — 28 дек. — №294.— С. 1173-1176.
5. Л.Л. [Межевич В.С.] Театр: Театральная хроника Москвы // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». — 1838. — 6 авг. — № 32. — С. 636–638.
6. Театр // Ведомости Санктпетербургской городской полиции. — 1839. — 20 сент. — № 24. — С. 96.
7. Театр // Ведомости Санктпетербургской городской полиции. — 1839. — 7 окт. — № 29. — С. 114.
8. Журнальные заметки // Северная пчела. — 1841. — 8 марта. — №54. — С. 215.
9. Коровкин, Н. А. Московский театр // Северная пчела. — 1841. — 28 апр. — № 391.— С. 361-362.
10. Б.к..м.ш.в. Н. [Беклемишев Н. В.] Театральная хроника Москвы // Литературная газета. — 1841. — 30 окт. — № 123. — С. 491–492.
11. В. В. В. [Строев В. М.] Портретная галерея русских сценических артистов : А. М. Каратыгина // Репертуар русского театра. — 1841. — Т. 1. — С. 1-8.
12. А. Гр. [Греч А. Н.] Александринский театр // Северная пчела. —1843. — 14 сент. — № 204. — С.813-814.
13. Ф. Б. [Булгарин Ф. В.] Александра Михайловна Каратыгина, урожденная Колосова // Северная пчела. — 1844. — №230. — 10 окт. — С. 919-920.
14. Ф. Б. [Булгарин Ф. В.] Журнальная всякая всячина // Северная пчела. — 1844. — 21 окт. — №240. — С.957-958.
15. Межевич, В. Несколько слов к портрету А. М. Каратыгиной // Репертуар и Пантеон. — 1844. — Т. 8 ; кн. 12. — С. 779-781.
16. А. Г. [Григорьев А. А.] Альфред де Мюссе // Московское обозрение. —1859. — Кн. 2. — С. 107-168.
17. Ковалевский, П. Юбилейные спектакли Гоголя в Петербурге. // Русская мысль. — 1886. — май. — отд. ХVI. — С. 181.
18. Хроника : Москва // Театрал. — 1896. — № 86. — окт. — С.101.
19. Заграничная хроника // Театрал. — 1896. — №97. — дек. — С. 120-122.
20. Соловьев, С. П. Отрывки из памятной книжки отставного режиссера // Ежегодник императорских театров. Сезон 1895-1896. Кн. 1. С. 129.
21. Я. Театр Корша // Театральные известия. 1896. 22 сент. №457.
22. История одной пьесы // Театральные известия. 1896. 3 окт. №467.
23. В. Е. [Ермилов В. Е.] Театр Корша // Театральные известия. 1896. 6 окт. № 469.
24. В. Е. [Ермилов В. Е.] Театр Корша // Театральные известия. 1896. 21 окт. №481.
25. Григорьев, А.А. Драмы А. де Мюссе. Москвитянин №13
26. Театр и музыка // Русские ведомости. 1896. 14 окт. № 284.
27. А. Епифанский. Провинциальная летопись // Дневник театра и искусства. 1900. 10 сент. №2.
28. Воспоминания старого театрала // Новости сезона. 1896.
29. Н. Р-ский. Театральный курьер // Петербургский листок. 1900. 3 февр. №33.
30. Театральное эхо // Петербургская газета. 1900. 3 февр. № 33.
31. В. П. О театре // Молва. 1857. 11 мая. №5. С. 61-62.
32. Русские спектакли // Театральный и музыкальный вестник. — 1857. — 13 окт. — №40. — С. 533-535.
33. А. Т. Театр литературно-художественного общества. // Сын отечества. — 1900. — 4 февр. — №34. — Изд. 2-е.
34. А. Т. Театр литературно-художественного общества // Сын отечества. — 1900. — 5 февр. — №35. — Изд. 2-е.
35. Театр и музыка // Россия. 1900. 27 янв. №272.
36. Театр и музыка // Россия. 1900. 3 февр. №279. С.3.
37. В. Д. [В.М. Дорошевич] Театр и музыка // Россия. 1900. 4 февр. №280. С.4.
38. Театральная хроника // Новости дня. 1896. 19 окт.
39. Театральная хроника // Новости дня. 1896. 22 окт.
40. С. Васильев. Театральная хроника // Русское слово. 1896. 22 окт. №284.
41. Современное обозрение // Театрал. №91. С.51-54.
42. Московская сцена // Русская сцена. С.1-12.
43. Театр и искусство. 1900. №6.
44. Юр. Беляев. Бенефис г. Орленева // Новое время. 1900. 3 февр. 1-е изд.С.5.
45. К. П. Фельетон // Санктпетербургские ведомости. 1848. 18 дек. №285.
46. Панаев, И. И. Современник. 1848. Т. 12. № 12, отд. 2. С.199.
47. Отечественные записки. 1848. Т. 61. №12, отд. 6. С. 112-113.
48. Бенефис г-на Усачева // Московские ведомости. 1849. 30 апр. №52. С. 549.
49. Французский театр. // Иллюстрация. 1848. Т.6. С. 92-93.
«Женский ум лучше всяких дум», «Каприз»:
Санкт-Петербург: 8, 28 дек. 1837; 26,31 янв., 12 февр., 21 апр., 9 июнь 1838; 7, 10 сент., 3 окт. 1839; 24 нояб., 4 дек 1841; 6, 22 сент. 1843; 17 окт. 1844; 19 июль 1851; 9 июль 1852; 27 июль, 25 авг. 1853; 7, 14 окт. 1857; 16 окт. 1861.
Москва: 27 апр. 1838; 6 сент. 1840; 11 апр. 1841; 28 сент., 16 нояб., 21 дек. 1848 г; 3 янв., 11 апр., 21 июнь, 26 сент. 1849; 31 янв., 28 сент., 27 дек. 1850; 23 янв. 1853; 22, 24 окт. 1854; 12 окт. 1856; 27 янв. 1857; 8 июнь, 6 июль 1862; 17, 23 май, 25 июль, 11 окт. 1863; 2, 26 февр. 1864; 18, 21, 24, 27, 30 окт. 1896.
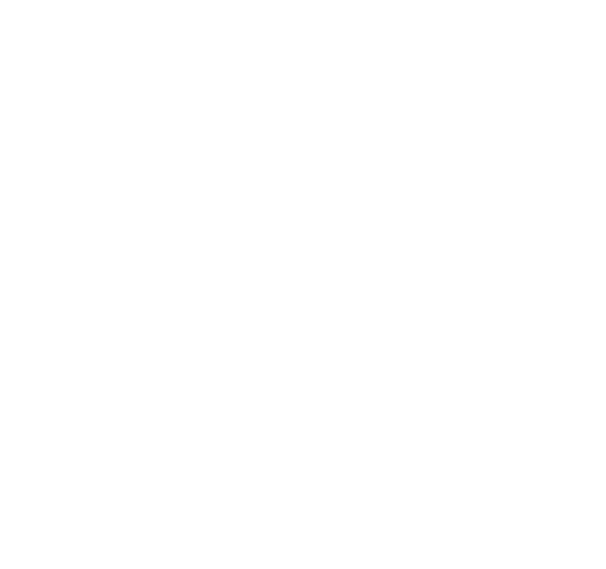
Иллюстрация С. Панаева к спектаклю «Лорензаччо» в театре Суворина.
Театр и искусство, 1900. №7.
Театр и искусство, 1900. №7.

Литография В. Далле. А. М. Каратыгина в роли госпожи де Лери. «Женский ум лучше всяких дум». 1844.